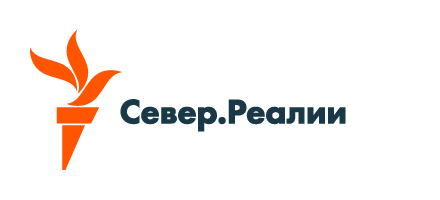8 сентября исполняется 80 лет с начала ленинградской блокады. Когда она началась, близнецам Леониду Романкову и Любови Мясниковой было по 4 года, но они очень хорошо помнят, как это все было.
– Нас было трое, мне и моей сестре-близнецу Любе 4 года, старшей сестре Марине – 10. Когда начинались бомбежки, первое время мы уходили в бомбоубежище, там были синие лампочки, и дышалось как-то плохо, так что скоро мама перестала спускаться с нами вниз, а вместо этого нас с сестрой загоняли на полки стенного шкафа. Это была капитальная стена, и если в дом попадала бомба, такие стены обычно оставались стоять. Поэтому мы там с сестрой лежали в темноте и обсуждали только что прочтенные нами “Мифы Древней Греции”, – рассказывает Леонид Романков, депутат Законодательного собрания Петербурга трех созывов, с 1989 по 2002 год. Он хорошо помнит блокадную жизнь своей большой семьи – троих детей, мамы, Людмилы Николаевны Давиденковой-Романковой, папы – Петра Григорьевича Романкова, дедушки – Николая Николаевича Давиденкова и бабушки – Любови Михайловны Давиденковой. Кроме того, всю блокаду с ними прожила бабушкина младшая сестра Вера Михайловна Рот.
– Игрушек у нас было мало, поэтому мы быстро научились читать, и чтение было нашей главной радостью. Больше всего мне нравились подвиги Ясона. Это была отдушина – когда темно, холодно и голодно, а ты читаешь про великолепное путешествие за золотым руном.
У сестры Леонида Любови Мясниковой любимыми героями были греческие боги – Зевс, Гера, Афродита.
– У нас в доме на лестнице стояли их статуи в нишах, там еще были Афина и Диана с собакой, и когда мы играли в прятки, то мы за ними прятались, так что у нас все греческие боги были персонифицированы. Сейчас этих скульптур уже нет, они пропали во время ремонта в 1990-е годы.
– Наша бабушка пережила Гражданскую войну и была очень осторожная, и поэтому на зиму наш стенной шкаф всегда забивался продуктами – крупами, макаронами, – продолжает Леонид Романков. – И это нас очень выручило в первую голодную зиму, а еще дрова, которые оставались в дровяном сарае, бывшем каретном. А потом становилось все хуже и хуже, голоднее и голоднее. Мама говорила, что мы все время клянчили – а когда будет обед? А скоро мы поедим? Что мне больше всего запомнилось из еды – это кружки с водой, в которой плавали хвойные иголки. Нам говорили, что если их размешать сто раз, они будут сладкие. Это был напиток от цинги. А второе – это торт из столярного клея, который был сделан на день рождения дедушки. Я помню коптилку, блюдо чуть ли не кузнецовского фарфора, на котором лежало желе. А третье блюдо, которое мне запомнилось, это когда мне стало совсем плохо и я попал в детскую больницу, мне дали такую конусообразную румяную булочку из казеинового клея, и я помню ее вкус – совершенно замечательный. Во вторую и третью блокадную зиму с продуктами у нас стало совсем плохо.
Но мы не ощущали это как что-то необычное: когда три года бомбежек и холода, то ты думаешь, что это и есть нормальная жизнь. Поэтому мы ходили во двор, играли с ребятами. У нас был старший мальчик Митя Ершов, он с нами играл, как будто мы были парашютистами, которых должны были забросить в тыл врага. Мы залезали на крышу дровяного сарая, для нас в 4–5 лет довольно высокую, и надо было прыгать вниз в сугроб. Он говорил: нельзя размышлять, быстро один за другим прыгаем в тыл врага. И поэтому, когда я, уже будучи взрослым, пошел в ЦПКО (Центральный парк культуры и отдыха. – СР) прыгать с парашютной вышки, то когда откинулась дверь, я вспомнил урок Мити Ершова и, ни секунды не размышляя, побежал и прыгнул вниз. Помню, один раз мы играли в войну, нашей крепостью была перевернутая телега: мы с сестрой Любой – по одну сторону телеги, враги по другую. Люба говорит: посмотри, где враги. Я приподнимаюсь, и в этот момент мне прилетает в глаз деревянная рейка, я падаю, обливаясь кровью, и говорю: Люба, они уже здесь! В бровь все-таки, по счастью, попало, а не в глаз, маленький шрамик остался.
Любовь Мясникова тоже помнит игры в блокадном дворе, как и ее брат, она считала блокадную жизнь нормой.
– Мы, дети, не сознавали, что живем какой-то особенной жизнью, мы думали, что это всегда так – холодно, темно, падают снаряды. И я до сих пор помню свой голос, который кричит: "Ребята, в 61-м снаряд взорвался, бежим осколки собирать!" Мы бежали, и победителем был тот, кто принесет самый горячий осколок.
По ее словам, запасенных бабушкой продуктов хватило ненадолго – когда детям давали "суп", в кружке плавало всего несколько крупинок. Зато в доме сохранилась старая дровяная плита, и на ней можно было кипятить воду, так что все соседи брали у них кипяток.
Эту сою потом по детским больницам раздавали и спасли ею очень много новорожденных детей, потому что у мам часто молока не было
– Наша сестра Марина с дедушкой ходила с саночками на Неву, чтобы принести воду – не было ведь ни воды, ни света, ничего-ничего. Это было очень страшно – все эту воду проливали, и можно было поскользнуться, вот они ходили, друг друга держали. Они и за хлебом ходили вдвоем и держали сумку между собой, чтобы у них ее не выхватили, шли как сиамские близнецы. Я тогда думала, что мир – это когда можно будет съесть столярного клея столько, сколько хочешь. А еще была хряпа – это верхние, совсем зеленые капустные листья, их толкли ножом, потом были шроты – это жмыхи, наверное, от сои. Тогда в ленинградском порту застрял сухогруз с технической соей. Мой папа был инженер, его специальность была процессы, аппараты и химические технологии, и его послали на завод организовать производство соевого молока. Коллектив из нескольких человек производство наладил, эту сою потом по детским больницам раздавали и спасли ею очень много новорожденных детей, потому что у мам часто молока не было, и этих детей подпитывали соевым молоком вместо грудного. Папу за это представили к Сталинской премии, но так и не дали.
– Отец, несмотря на дистрофию и бомбы, ходил каждый день пешком на работу в Технологический институт, – вспоминает Леонид Романков. – А потом заболел экссудативным плевритом. Одно их самых моих страшных впечатлений блокады – когда в углу комнаты лежит отец, совершенно исхудавший, с выпирающими скулами и безумными глазами. К счастью, мама все-таки его вылечила. Весной старшая сестра Марина ходила с дедушкой в ботанический сад собирать крапиву, и потом из нее варили очень вкусный крапивный суп, там же и хвою собирали. Марина была очень начитанная девочка, и у нас сохранилась ее переписка с ее тетушкой Ириной, мы с Любой даже издали эту книгу, она называется "Прямая речь", там очень много интересных деталей из этого времени.
Из письма Марины к тете Ирине от 17.12.1942 видно, что вторая блокадная зима оказалась для семьи тяжелее первой.
"Теперь мы лишены всего. Света нет, воды нет, канализация не действует, радио работает очень редко, и мы свое г-о выносим ведрами на помойку… Для нас большое счастье, когда мы печем лепешки из накопленной нами за неделю кофейной гущи и из остаточков картофельной муки. Еще мы кладем туда соды и соли – больше ничего. Да ведь и нечего класть. Но это нам кажется сверхблаженством. О густом супе мы давно забыли, о кашах тоже, правда, малыши имеют иногда жидкую кашицу, да и мне кое-что от них достается. О сливочном масле и вообще о жирах, сахаре, конфетах, белках, мясе мы уже забыли. Еле-еле кое-как мы еще держимся".
По словам Леонида Романкова, дедушка был академик, металлург, и первый год семье было чуть полегче, потому что он получал академический паек.
– Но потом он совершенно исхудал, весил 40 килограммов, и его с бабушкой отправили на самолете в Москву. Мама вспоминала, как они уезжали, оставляя маму с тремя детьми и больным мужем, и она спросила бабушку, свою маму: а что же мне делать? Бабушка сказала: надейся на чудо. И улетела с дедушкой в Москву.
– Почему же вас оставили, не попытались эвакуироваться вместе?
– Отец хотел, но на работе ему отказали, объяснив, что с тремя детьми они его взять не могут, и он на них на всю жизнь обиделся, он думал, что в Ленинграде мы все погибнем. А дедушку, академика, работавшего для фронта, считали ценным кадром и потому вывезли, а так он уже совсем доходил. И бабушка считала, что ее долг – это ее муж, в первую очередь.
– Вы помните блокадные улицы?
– Конечно, они были все завалены снегом. Нас еще одевали в такие ватнички, на которые были нашиты белые лоскутки с фамилией и адресом, чтобы, если убьют, можно было найти труп. И если потеряемся, чтобы знали, куда привести. Помню, как мы с Любашей и Мариной гуляли, и в это время на углу Чернышевского и Чайковского упала бомба, мы только чуть-чуть до того места не дошли. В другой раз бомба упала во дворе нашего дома, но не взорвалась. Для тушения зажигалок мы были слишком маленькими, в лучшем случае охотились на крыс. То есть пытались в меру своих слабых сил попасть камнем в крысу.
Во время блокады много домов стояло в руинах, и мы ходили туда искать всякие вещи
Крысы тоже были не самые упитанные. У нас был замечательный ангорский кот, но мы его довольно быстро обменяли в булочной на буханку хлеба: в булочной были крысы, а съесть нашего кота мы не могли, слишком любили. У нас была прекрасная дворовая компания – трое ребят старше нас, мы с Любой и наша подружка, с которой мы потом вместе учились в Политехе. Потом мы всегда вшестером собирались у Любы на Чайковского. Во время блокады много домов стояло в руинах, и мы ходили туда искать всякие вещи, однажды, помню, нашли хрустальные солонки, которые до сих пор хранятся у Любы. Тогда была особая дворовая культура, наш двор – это была наша коммуна, наше прибежище. Правда, однажды у меня была драка со старшими мальчиками, они меня связали, потому что я в них плевал. Мама потом меня спросила: как ты мог так себя вести? Я ответил: мама, я забыл строку Пушкина "Учитесь властвовать собой". Мама меня поняла, но все-таки меня наказали и три дня во двор не пускали. А еще у нас была грядка на Марсовом поле, мы там посадили морковку и всякое прочее, но когда пришли за урожаем, оказалось, что кто-то раньше нас его съел. Помню наше разочарование.
Из письма Марины к тете Ирине от 18.02.1942.
"Иногда нам удается покупать плитки столярного клея по 25–50 руб. штука, и делаем заливное из клея. Это просто обворожительно. У нас недавно были В. В. и Н. А. Андерсон и рассказали, как они питаются. Они едят так же, как и мы, – столярный клей, варят сыромятные ремни и их едят, а самое забавное – геморроидальные свечи. Они их кипятят, потом дают застынуть, тогда наверх подплывает масло какао, и едят это самое какао-масло. Не горюй! Когда-нибудь увидимся. Ведь не век будет длиться эта ужасная, кровопролитная война".
По словам Леонида Романкова, дедушка с бабушкой иногда присылали им посылки из Москвы.
– Помню, как приходил сослуживец отца и принес нам бутылку рыбьего жира, и это нас очень поддерживало. Как ни странно, по почте приходили посылки, фанерные ящики с надписью химическим карандашом.
Мама очень не любила вспоминать блокаду, даже книжку Гранина с Адамовичем не хотела смотреть, настолько все это было страшно
– Вообще-то Физтех (Физико-технический институт имени А.Ф Иоффе РАН. – СР) эвакуировали в Казань, но дедушка с бабушкой остались ради нас, чтобы поддерживать семью дедушкиным академическим пайком. Но поскольку дедушка стал совсем дистрофиком, бабушка решила, что вторую зиму ему не пережить, по льду Ладожского озера он не переедет, умрет по дороге. И его все-таки эвакуировали с бабушкой на самолете в Москву. Мама очень не любила вспоминать блокаду, даже книжку Гранина с Адамовичем не хотела смотреть, настолько все это было страшно. Она же осталась в 34 года с тремя детьми, которых кормить нечем, и с больным мужем. Дедушка остался работать в Москве и иногда присылал нам посылочки. В Физтехе сохранилось письмо, где в одну строчку без пробелов было написано: "Дорогой Коленька (мы звали его Коленька, так, как его звала бабушка), большое спасибо за Оскорбиновую кЕслоту и чеснок".
– Чем же вы занимались дома вечерами?
– Нам читали при свете трехвольтовой лампочки от аккумулятора "Большие надежды" Диккенса и другие книги.
– Все же, видимо, выжить в блокаду без каких-то дополнительных источников, счастливо припрятанных заначек, посылок было невозможно…
– Вот почему мы выжили – потому что у бабушки с дедушкой был опыт Гражданской войны и голода в Петрограде в 1919 году, откуда они уехали в Харьков, чтобы тут не умереть. И хотя уже был 1940-й год, все, казалось бы, нормально, но бабушка не выкидывала кофейную гущу, и у нас были мешочки с сухой кофейной гущей, так что в блокаду у нас был как бы кофе. И вот еще что: Сталин не знал, что будет война, а моя мама знала, что будет война, и поэтому, работая в Технологическом институте, она все корки, которые сотрудники не доедали, подбирала и сушила в сушильном шкафу, и у нее был мешочек с беленькими корочками, сухариками. Во время блокады мама ушла из Техноложки, и, чтобы быть поближе к нам, работала через два дома в больнице Дзержинского района, сначала медсестрой, а потом в биохимической лаборатории, которую сама же и организовала. И они брали у рожениц молоко на анализы – все ли с этим молоком хорошо, и потом на пробирках оставались следы этого молока, она все это собирала и приносила мне где-то треть пробирочки грудного молока. У меня от голода сделался кровавый понос, но грудное молоко на вкус было такое отвратительное, что меня от него рвало. Мама рыдала и каждый день давала мне по одному белому сухарику – от поноса. Уже потом она рассказывала, что когда протянула мне последний сухарик, то мысленно со мной попрощалась. Но с последнего сухарика понос прошел, и я выжила. У Лехи был туберкулезный бронходенит, и его сдали в больницу и там подлечили. После этого бронходенита у него появился порок сердца, то есть он чисто физически пострадал от войны больше, чем я: я отделалась кровавым поносом, а он пороком сердца. А еще, я считаю, мы выжили потому, что бабушка была очень дисциплинированным человеком. У нас во дворе были каретные сараи, которые потом стали дровяными. Обычно все покупали дрова осенью, а бабушка купила 20 кубометров березовых дров еще в мае, так что у нас были дрова. А потом, бабушка не терпела безделья, это называлось "протиранием времени", поэтому нас, голодных, выгоняли в 40-градусный мороз на улицу с маленькими лопаточками, чтобы мы расчищали дорожку между сугробами, а снег был выше нашей головы. Моя сестра должна была записывать показания барометра и градусника и строить графики – ей сказали, что если мы эвакуируемся, то она сможет пойти работать лаборанткой на завод.
Из письма Марины тете Ирине от 09.03.1942.
"Теперь это письмо пишу очень короткое, так как у меня сделался авитаминоз глаз, и мне утомительно писать, читать, шить и делать какую-то мелкую работу. Папочка заболел. Мама ему ставила банки и согревающий компресс… Прости, больше писать не могу. У меня сразу болит голова. Я тебя заклинаю, не сокрушайся о нас. Пока что мы живы, хотя и с трудом".
– Дом у нас был очень организованный, у нас была команда, ходившая по этажам и смотревшая, не умер ли кто, – говорит Любовь Мясникова. – Была у нас такая Ада Евсеевна, коммунистка, которая всех под ружье поставила. Была команда, которая на крыше зажигалки тушила, папа туда ходил. Когда падали бомбы-зажигалки, их хватали специальными рукавицами термостойкими и совали в ящики с песком, которые там стояли. Меня только однажды туда взяли. А мы осколки собирали, у меня была коллекция – 387 осколков, и однажды я с кем-то поменялась на какие-то другие осколки от бомбы, и там что-то тикало. Мама так испугалась, что когда я спала, она поползла к Неве и утопила весь этот ящик. Горе было невозможное. Потом она сама жалела, говорила – это был бы хороший экспонат для музея обороны Ленинграда.
Леонид Романков плохо помнит, как отступал голод и появлялись другие продукты, кроме обычных блокадных. Его сестра помнит, как из эвакуации после блокады стали возвращаться люди, хоть это было очень трудно – чтобы вернуться, нужен был вызов кого-то из родных.
Я и сейчас съедаю яблоки до черенка – выбросить огрызок просто не могу
– В нашем дворе появились ребята, приехавшие из Ташкента, и у них были яблоки. А яблок мы вообще никогда не видели. Они играли, кусали яблоки и выкидывали огрызки, а мы с Лехой сидели в подвале и ждали, когда они уйдут со двора – неудобно же было у них что-то просить. Потом мы подбирали вот этот пыльный огрызок, и это было что-то невероятное! Я и сейчас съедаю яблоки до черенка – выбросить огрызок просто не могу. Салют в день снятия блокады я помню. И еще помню, что родители очень не хотели, чтобы мы слышали, что они говорят о блокаде. Мама очень хорошо знала французский, и когда дети подходили, они с папой переходили на него. Конечно, они радовались снятию блокады – но, наверное, обдумывали, как жить дальше. Я думаю, что силы человеческие безграничны, но мы их в очень малой степени используем, особенно когда жизнь хорошая.
Любовь Петровна по специальности материаловед, до сих пор работает в Физтехе и ставит научные эксперименты. Она долго не хотела получать повышенную пенсию, положенную блокадникам.
Я первое время даже платила за метро и не пользовалась льготами, настолько мне было стыдно
– Мне стыдно ее получать, я считаю, что мне и так Боженька дал счастливый билет. Я первое время даже платила за метро и не пользовалась льготами, настолько мне было стыдно. Есть люди, которые потеряли здоровье в блокаду, им надо помогать, но, конечно, разделить это невозможно. Поэтому потом я сдалась и стала получать большую пенсию, но я ее всю стараюсь употребить, так сказать, на благо отечества. Доплачиваю аспирантам, чтобы у нас наука сохранялась, доплачиваю моим помощникам, которые мне установку делают для эксперимента, посылаю в фонд Чулпан Хаматовой, беженцам из Донецка, ученым Донецка, то есть свою пенсию употребляю на благое дело. В саване карманов нет, с собой деньги не унесешь, да у меня их и не так много, пенсия 30 тысяч, но я ведь еще работаю. Вот я и считаю – раз ты зарабатываешь, вот и живи на это, а раз у тебя пенсия незаслуженная – ведь ты и так выжила, тебе и так хорошо – ее можно на что-то полезное отдать.
Леонид Романков с гордостью вспоминает своих родителей.
– Отец после войны стал членом-корреспондентом Академии наук, он был проректором по науке Технологического института, между прочим, беспартийным. Мама после войны была домохозяйкой – потому что нас троих надо было поднимать. Марина – кандидат медицинских наук, Люба – физико-математических, а я – технических. То есть дедушка у нас академик, папа членкор, а мы всего лишь кандидаты.
"Всего лишь кандидаты" ведут удивительную жизнь – чрезвычайно активную даже для гораздо более молодых людей. Леонид Романков, правда, уже не работает, но продолжает ездить в ежегодные археологические экспедиции – этому его увлечению уже около 60 лет. Раньше во время каждый такой экспедиции он писал и ставил со своими друзьями любительскую оперу, теперь снимает кино, а оперу пишет зимой. Его можно видеть на большинстве сколько-нибудь значимых культурных событий Петербурга. Любовь Мясникова, кроме интенсивной научной работы, занимается горными и водными лыжами, танцует фламенко.
– Я сейчас как раз должна шаль подшить для занятия. Прямо разрываюсь – то ли письмо в Минобразования написать, я обещала, то ли шаль подшивать – танцевать-то завтра. Иногда я еду с работы в 8 вечера и думаю: Господи, все нормальные люди сейчас придут домой, поужинают и лягут спать, а я иду на фламенко. Но когда возвращаешься с фламенко – горы готова свернуть.
Сейчас они остались в квартире вдвоем со старшей сестрой. Любовь Петровна старается реставрировать старинную мебель, сохранять все, что связано с блокадной памятью и памятью о ее родителях, дедушке и бабушке.
Она показывает комнату (сейчас это ее кабинет), где в первую же блокадную зиму при бомбежке вылетели все стекла, которые еще не успели заклеить крест-накрест бумажными полосами, окно пришлось заделать фанерой.
Раньше в каждой комнате была печка, но сейчас она есть только тут – в память о прошлом. Тут же на туалетном столике – фотографии родителей, около письменного стола – большой портрет отца. Показывает Любовь Петровна и особую комнату – выгороженную из кухни. До революции это была комната прислуги, а в страшные блокадные зимы в ней ютилась вся семья: рядом была та самая дровяная печь, вокруг которой теплилась жизнь. Тут же собраны картины, которые дедушка рисовал во время своих отпусков – каждый год по акварели.
Леонид Романков бывает в своем прежнем доме, навещая сестру. По ее словам, в этом году исполняется 100 лет, с тех пор как их семья живет в доме на улице Чайковского, 63, в том самом, где прошло их блокадное детство.