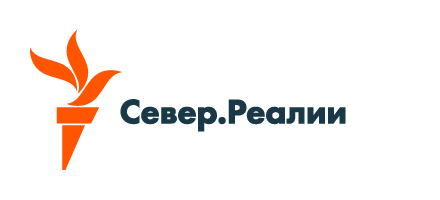Известная пианистка Полина Осетинская сообщила, что не будет играть в Большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена – его отменили. Возможно, это связано с гражданской позицией пианистки, которая еще в феврале выступила против военных действий в Украине. Она рассказала корреспонденту Север.Реалии, что думает об отмене концерта и как чувствует себя в сегодняшней ситуации человек искусства.
Полина Осетинская родилась 11 декабря 1975 года в Москве, в семье кинематографиста Олега Осетинского, училась музыке в Центральной музыкальной школе при консерватории им. П. И. Чайковского в Москве, затем в школе-лицее в Петербурге, но в основном – дома, под руководством отца. Выступать на сцене начала в 6 лет, в 11 лет сыграла сольный концерт в Большом зале Московской консерватории. Позже выяснилось, что такие успехи стали возможны благодаря жесточайшей системе воспитания, включавшей постоянные избиения и унижения со стороны отца. В 13 лет она от него сбежала, но не бросила занятия музыкой, в 1988-м окончила Петербургскую консерваторию.
Полина Осетинская – автор бестселлера "Прощай, грусть", в котором рассказала о своем необычном детстве и трудном взрослении. Артистка постоянно гастролирует в России и за рубежом, выступает с сольными концертами, а также вместе с лучшими российскими и зарубежными оркестрами. Часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, давая концерты на филармонических площадках обеих столиц.
Концерт, который отменили, должен был состояться в Большом зале петербургской филармонии. Телеграм-канал "Ротонда" выяснил, что организатором концерта был "Фонд содействия занятости", гендиректор которого Кирилл Суворов сказал журналистам, что выступление Осетинской "не согласовал заказчик, который платит деньги". Имя заказчика при этом осталось неизвестным.
– О причинах отмены концерта я могу только догадываться, но никакой конкретики нет – никто не сказал, почему он отменен, и кто это сделал, – говорит Полина Осетинская. – Мне бесконечно жаль, что я не могу делать свою работу. Петербургская филармония – это не просто важная для меня площадка, она меня во многом сформировала. В то же время именно здесь случилось довольно много громких отмен моих концертов.
– Так это не первая отмена вашего концерта в этом зале?
– Нет, первая отмена случилась 6 декабря 1988 года, когда я должна была играть свой первый концерт в Большом зале Филармонии в возрасте 12 лет. Это концерт с большим трудом пробил мой отец, а 1 декабря я сбежала из дома – мне очень хотелось свободы, я не могла больше воспринимать тот эмоциональный и человеческий тон, в котором я жила. Поэтому тогда для меня было совершенно естественным отменить все концерты и уйти в глубокое подполье. А следующая отмена произошла, когда я на первом курсе консерватории должна была играть сольный концерт, он уже был поставлен в план, но за месяц до концерта его отменил тогдашний директор большого зала филармонии Дмитрий Иванович Соллертинский, сын знаменитого музыковеда Соллертинского, с формулировкой – что это у нас всякие первокурсницы будут играть сольные концерты.
– Вам тяжело было это пережить?
– Я хорошо помню, что узнала об этом, сидя в гостях у петербургского художника Анатолия Белкина. Кажется, это он, увидев меня на кухне, зареванную после телефонного разговора, сказал: "Полечка, ну что ты расстраиваешься, подумаешь, большой зал филармонии – не такой уж он и большой". Потом была еще какая-то история с моими концертами, потом я сыграла там большой сольный концерт впервые после большого перерыва, он состоялся в год моего тяжелого развода и в ту же самую дату, в которую должен был пройти в 1988 году. Потом концерты тоже переносились, отменялись, но та отмена была, наверное, самой болезненной для меня.
– А вы понимаете, почему Соллертинский так поступил, что это было – плохое настроение, каприз, чьи-то интриги?
– Я думаю, что сыграла роль досада на меня, растянутая на годы, за тот отмененный концерт 1988 года. Тогда ведь были распроданы все билеты, был огромный скандал. Но вообще, мне кажется, в таких вещах никто никогда не знает всей правды – и это единственная правда, которую нам дано знать.
– И сегодня дела обстоят так же?
– Я только знаю, что огромное количество людей, которые любят слушать, как я играю, читать то, что я пишу, разделяют мои жизненные ценности, оказались лишены моего концерта, хотя многие специально приехали на него из других городов. Именно для того, чтобы послушать меня и побыть в этот день со мной. Надо сказать, что у меня очень преданные, очень проницательные, добрые и умные слушатели, я ими бесконечно дорожу, и разлука с ними огорчает меня сейчас сильнее всего. И я говорю не только об этой отмене, но и о возможных будущих, потому что атака идет совершенно беспрецедентная – и на мою страницу, и на руководство тех залов, где я должна выступать.
– Как вы думаете, может, это какие-нибудь сторонники так называемого патриотического писательского крыла вами недовольны – те самые, призывавшие разобраться с представителями творческой интеллигенции, которые проявили, с их точки зрения, недостаточную лояльность власти, неправильно ведут себя в нынешней ситуации, не одобряют "специальную военную операцию", например?
– Опять же – всей правды мы тут не узнаем.
Однако уже сейчас с определенностью можно сказать, что люди, которые радуются отмене концерта артистки в Петербурге, существуют. Ее имя уже упоминается на странице во "ВКонтакте" "Те, кто позорит Россию". Там радуются отмене концерта Осетинской и сожалеют, что еще не все ее концерты отменены, под постом множество грубых и злобных комментариев.
– Сегодня много пишут о том, что огромное количество артистов уехали из страны или прекратили свою деятельность. Вы не задумывались о том, чтобы тоже уехать?
– В феврале, марте, апреле, когда все массово уезжали, я тоже примеряла на себя различные варианты. И я должна сказать, что я из тех людей, которые очень любят свою страну, которых, наверное, можно назвать настоящими патриотами – хотя так говорить очень сложно, поскольку это слово сейчас сильно скомпроментировано, у него появилось слишком много коннотаций. При том, как я люблю Россию и тех драгоценных людей, которые в ней еще остаются, я не знаю, как еще надо проявлять свои чувства. Мне всегда казалось, что оставаться, играть, быть с теми, кто в этом нуждается здесь, – это и есть подлинное проявление патриотизма. При этом я не говорю, что те, кто поступили иначе, не любят свою страну.
– Вот это очень важное дополнение, потому что по этому поводу у нас ведутся баталии…
– По крайней мере, я считаю, что надо всегда разграничивать понятия: есть земля, которая нас породила, есть люди, которые управляют этой частью суши, есть те, кто ее населяет, а есть наши драгоценные воспоминания, наши могилы, наша жизнь, которую мы здесь прожили. Кому-то легко дается пересадка на новую почву – а может, и никому. Но для меня такая пересадка была бы – или будет – крайне болезненной. В какой-то момент друзья пытались поставить меня перед выбором, настаивали: ты все-таки подумай. Вот когда мне пришлось думать на эту тему, я просто плакала с семи утра до полуночи – и поняла, что я не могу.
– Наверное, тут стоит сказать об особом случае – о тех, кто вынужден был уехать из-за преследований, из-за уголовных дел…
– Конечно! Я вообще не хочу, чтобы хоть одно мое слово было расценено как упрек кому-либо или как знак некого морального превосходства. Совершенно неприемлемо и абсолютно безнравственно сейчас осуждать кого-то, хоть уехавших, хоть оставшихся. Огромное количество тех, кто уехал, грозит пальчиком и поучает, и это ничуть не менее неприятно, чем слушать тех, кто здесь улюлюкает вслед уехавшим. Каждый делает свой выбор – для кого-то он простой, для кого-то сложный, для кого-то вынужденный. Я могу сказать одно: я бы очень не хотела оказаться в ситуации, когда мне этот выбор совершать придется.
– Вы не раз говорили, что вам тяжело возвращаться к вашему непростому детству, но вы сами упомянули о нем, вспоминая первую отмену вашего концерта в Большом зале Петербургской филармонии. Вы учились музыке в атмосфере жестокости и насилия, и тут мне вспоминается история Паганини – уж не знаю, миф это или правда, но говорили, что его отец запирал в чулан, заставляя играть на скрипке. Да и вообще элементы насилия всегда присутствуют в воспитании, когда ребенок учится застегивать пуговицы, завязывать шнурки, читать, писать. То есть, с одной стороны, культура невозможна без некоторого насилия, с другой – творчество невозможно без свободы, вы когда-нибудь задумывались об этом противоречии?
– Для меня тот вид творчества, которым я занимаюсь, – это, прежде всего, свобода самовыражения. И мне кажется, что это вообще – основное в творчестве: если невозможно говорить открыто, невозможно выражать свои чувства так, как ты хочешь, быть искренним – это, наверное, самая губительная вещь в любом жанре искусства. Мой жанр – невербальный, у меня есть свобода максимально полно выражать звуками все то, что я думаю и чувствую. И мои слушатели научились это понимать, слышать, они точно знают, зачем приходят на мой концерт. Запретить транслировать свои чувства и мысли невербально – невозможно.
– Да, но вы говорите уже о творчестве, а при овладении ремеслом насилие неизбежно?
– Может, это не столько насилие, сколько дисциплина. Хотя, конечно, в воспитании не обойтись без каких-то манипулятивных воздействий: когда мы уговариваем ребенка, просим, даже заигрываем с ним, это нельзя назвать чистой педагогикой, тут есть разные элементы. Я не говорю о ситуации, когда насилие укоренено в действиях некоторых педагогов, в атмосфере некоторых учебных заведений, и детей оттуда выносит не то что вперед ногами, но с ненавистью к музыке и, как правило, с тяжелым психическим расстройством. Такие случаи, мне кажется, надо сразу пресекать. Но для меня как для человека, у которого есть своя жизненная история, любая форма насилия является очень сильным триггером, который запускает во мне те процессы, которые, возможно, в ком-то другом и не запустились бы. Но я человек сверхэмоциональный, я не могу спокойно реагировать на какие-то вещи.
– Например?
– На любые формы насилия, унижения, подавления.
– Но если вы так болезненно реагируете на любые формы насилия, как же вам удалось – после всего того, что вы пережили со своим отцом, – не возненавидеть музыку?
– Потому что музыка была и остается для меня той территорией, где я могу выплескивать все свои чувства и эмоции. Она является не только моим спасением, но и спасением, прошу прощения за пафос, всего человечества, которое способно это осознать. Поскольку музыка – это божественный дар, причем дар, который достался людям просто так – им досталась и возможность слушать, рождаться, перерождаться, становиться лучше. Вообще, на мой взгляд, это прямая обязанность музыки – делать человека лучше. Если не навсегда, то хотя бы на момент прослушивания. Или, скажем по-другому, ее высшей целью и обязанностью является перерождение того, кто сидит в зале.
– Правда, тут сразу возникает соблазн вспомнить немецких нацистов, многие из которых, как известно, были знатоками, любителями музыки, меломанами – и им это не помогло. Может, это вообще одна из величайших наших иллюзий – что искусство может что-то исправить, улучшить в человеке?
– Ну, мы, те, кто занимаемся искусством, можем позволить себе находиться во власти этой иллюзии. Но, разумеется, если искусство не насаждается повсюду и на всех уровнях, вряд ли оно кого-то спасет. Мы говорим о 3–5, может быть, 10 процентах людей на земном шаре, для которых культура является важнейшей, базовой, чуть ли не физиологической потребностью – она для них так же необходима, как воздух, как кусок хлеба. Мы с вами относимся к этим процентам, и поэтому, конечно, мы идеалисты. Но обобщения тут не работают, всегда есть частности, всех искусство не переродит, а кого-то одного – может, и не исключено, что этот один потом будет отвечать за гораздо большее количество людей.
– А кроме того, без этой иллюзии, наверное, вряд ли вообще можно заниматься искусством.
– Да, мне кажется, тогда к нему лучше вообще не подходить.
– В одном из ваших интервью вы признаетесь, что когда вы осознали богемный, распущенный характер того существования, в которое вы были погружены благодаря вашему отцу, вы этот формат не приняли, он вызывал у вас отвращение. Это отношение к богеме, к вседозволенности, которую иногда культивируют художники, – оно у вас осталось?
– Да, я болезненно отношусь к вопросам морали, этики, уклада, верности, чистоплотности, порядка, даже, может быть, к таким вопросам, как употребление опасных веществ, то есть, наверное, являюсь какой-то страшной ханжой, возможно, даже ригидным старообрядным блюстителем нравственности. Но это мой выбор. Я его никому не навязываю: я живу так.
– В начале ХХ века многие художники, поэты – та же Надежда Мандельштам пишет об этом в своих воспоминаниях – подпали под известный соблазн, что якобы тому, у кого есть талант, больше позволено. Есть люди, которые и сейчас так думают…
– Мне кажется, наоборот: если ты мнишь себя художником, тебе позволено меньше. Потому что невозможно со сцены проповедовать одно, а в жизни транслировать другое. Это двойные стандарты и самое настоящее ханжество. Поэтому любой художник должен стремиться к моральному совершенству. Я не говорю, что кто-то может его достигать, но, по-моему, стремиться к нему совершенно необходимо.
– У вас всегда была гражданская позиция, вы поддерживали и Pussy Riot, и участников протестов Болотной, и Кирилла Серебренникова во время процесса над ним. Сейчас вам это легко могут припомнить – вы не жалеете о своих действиях?
– Нет, конечно. У нас одна жизнь, одна совесть, и, наверное, самое неприглядное, что можно с ней сделать, – это изменить своим убеждениям и перекроить себя в угоду выгоде.
В самом начале военных действий в Украине Полина Осетинская была среди тех, кто решительно высказался против нее. 24 февраля она назвала чёрным днём в истории, написала своим подписчикам в инстаграме, что чувствует по поводу происходящего ужас, стыд и отвращение. 26 февраля она разместила на своей странице Обращение российских НКО о прекращении войны. "Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия", – говорится в нем.
– Мы очень много сетуем о том, как мало солидарности среди художников, артистов, литераторов, журналистов – как вы думаете, почему?
– Мне кажется, проблема в том, что у всех этих людей обостренное эго, оно не дает возможности компромисса с другими, и во многих случаях эго будет вести за собой человека, а не человек – свое эго. Это и мешает людям объединяться и проявлять солидарность.
– Вы как-то заметили, что стараетесь по возможности нигде не иметь дела с государством. В какой мере это вам удается? У вас трое детей, двое из них школьники, и уже одно это – довольно тесная связь с государством.
– Да, и основные площадки моих концертов – это государственные филармонии. Но, представляя экономику этого вида деятельности, я хорошо знаю, например, из чего складывается гонорар исполнителя. По большей части – из денег, которые слушатели платят за билеты. А слушатели либо приходят на тебя, либо не приходят на тебя. И я считаю, что моя работа – это играть не государству, а тем людям, которые проживают в этом государстве. У этих людей могут быть совершенно разные взгляды, позиции, но если они пришли ко мне на концерт, значит, им это надо. И они имеют право меня послушать, а я имею право им сыграть.
– Вы, конечно, знаете об ожесточенных спорах об отмене русской культуры – как вы к этому относитесь?
– Мне кажется, мы прекрасно справляемся с отменой русской культуры, потому что мы сами себя отменяем внутри страны. На самом деле на большей части земного шара сейчас звучит Шостакович, Прокофьев, Чайковский. И там, где нет – помните, как Сталин говорил, "перегибов на местах", там все в порядке. Правда, сейчас "перегибы на местах" есть везде – и я бы не кричала об отмене русской культуры, находясь там, я бы кричала об отмене русской культуры, находясь здесь. Те события, которые разворачиваются в последнее время у нас в сфере культуры, как раз и можно назвать ее отменой. Вернее, некоторых ее видов, представителей и направлений. Когда запрещается искусство, которое не одобряется государством. Когда, например, запрещаются постановки неугодных режиссеров, снимаются спектакли Крымова, закрывается "Гоголь-центр", увольняются руководители театров, такие как Райхельгауз, возглавлявший театр "Школа современной пьесы", – все это наглядно показывает, какие у нас идут процессы.
– Но все-таки и на Западе мы постоянно слышим призывы не читать русскую литературу, не играть русскую музыку, там ведь тоже отменяются балеты Чайковского.
– Мне трудно это комментировать – я не видела этого своими глазами, не знаю контекста, не знаю формы, в которой это происходило. Конечно, изымать из библиотек книги Пушкина или снимать постановки Чехова – это, скорее, из числа импульсивных реакций, а не взвешенных решений. Но, мне кажется, сейчас вообще никто не принимает взвешенных мудрых решений – все находятся в состоянии озлобленности, аффекта или гнева, а такие чувства не способствуют принятию разумных решений. То же можно сказать и о призывах отменить визы всем россиянам, и о многом другом. Хотя визы важны всего лишь для 15–20 процентов россиян, остальные никогда не выезжали не то что за границу, но и за пределы родного города.
– Получается двойная отмена – и изнутри, и снаружи. Хотя, казалось бы, вам должно быть легче, ведь ваше искусство не связано со словом.
– Да, не связано, как у актера или писателя, музыка – язык универсальный, и я не собираюсь ничем себя ограничивать, говоря на этом языке, и надеюсь, что никто этого не сделает за меня.
– Когда-то вас называли – довольно пафосно – символом перестройки, а как вы сейчас видите себя внутри нашего времени?
– Вижу грустно: мне не 17 лет, и перестройка давно закончилась, и нового Горбачева нет. У меня – не знаю, как у моей страны, – сегодня меньше шансов и возможностей, чем тогда, когда начиналась перестройка.
– Мы сейчас живем внутри очень страшных событий, вы тоже, несомненно, переживаете за то, что происходит. Влияет ли это на ваше искусство? Вы сегодня играете так же, как раньше, или по-другому?
– Да, я считаю, что если мы стараемся делать что-то настоящее, мы всегда отражаем наше время. Я сейчас абсолютно все играю по-другому. Что касается репертуара, я все равно выбираю ту музыку, которая мне созвучнее. Это Шостакович, Бах, Канчели, да много чего. Но любую музыку я сейчас играю по-другому.
– Трагедия, переживание, страдание – всегда на пользу художнику или нет?
– А помните Григория Горина, который говорил, что тому, кто шутит, это укорачивает жизнь, а тому, кто смеется, удлиняет. Поэтому вопрос о пользе страдания я бы сейчас не ставила. Любой человек, который сегодня глубоко переживает, принимает все близко к сердцу и выдает все, что может, на сцене, на бумаге, на холсте или где-то еще, – мне кажется, он укорачивает себе жизнь.
– То есть художник проигрывает как биологический организм, а его произведения – может, они становятся ярче?
– Да, пожалуй, если у художника есть к этому способности, глубина его высказывания становится от этого ярче, интенсивнее.
– Отвлекаясь от искусства – обсуждаете ли вы с детьми то, что сегодня происходит?
– Я очень многое с ними обсуждаю, но все-таки они разного возраста, им 10, 13 и 19, и если со старшей я могу говорить обо всем, то обсуждать это с младшими я не вижу смысла, я все равно не могу быть с ним на равных, как бы я ни старалась. Но они прекрасно знают мои взгляды, они вырастут, понимая, какой человек находится рядом с ними.
– Ваши дети – читающие?
– К сожалению, нет – совсем не читающие, подверженные гаджетам. Читают только в редких случаях, когда попадается то, что им интересно. А все обязательное, школьное отвергается. Меня это очень расстраивает, но я поняла, что никакие силовые методы тут не работают.
– Как вам удается и концертировать, и уделять внимание детям?
– Это сложно, я часто разрываюсь, комплексую, но надо просто выделять время от времени день активного общения, активного слушания и включенного сознания. Тогда, каким бы коротким ни был этот день, он будет интенсивным, ярким и прочувствованным.
– А вам самой помогает ли сейчас литература, вы что-то читаете или перечитываете?
– Мы говорили об этом с Галиной Юзефович, и я честно призналась, что меня сейчас хватает только на короткие тексты. Я с огромным удовольствием читаю дневники или поэзию, которую выкладывают мои друзья. Мне важны сейчас те жанры, которые можно назвать литературой-свидетелем. Или, наоборот, те вещи, которые уже находятся от меня на большой временной дистанции, тот же "Заповедник" Довлатова. А вообще передо мной на полочке лежит много книг, но ни до одной мне не дотянуться – потому что не сосредоточиться. Для этого должна быть размеренная, предсказуемая жизнь по заведенному плану, без стресса. У меня есть друг, у которого правило – каждый день 50 страниц, невзирая ни на что. Это вопрос приоритетов и возможности сосредоточиться, у меня она сейчас нулевая.
Полина Осетинская создала и до сих пор возглавляет "Центр по поддержке профессионального здоровья музыкантов Полины Осетинской", помогающий людям творческих профессий решать проблемы со здоровьем. И еще она – попечитель фонда "Кислород", который помогает больным муковисцидозом.
– Вы давно занимаетесь благотворительностью, для которой сейчас по многим причинам наступили трудные времена. Вы не оставили этой деятельности, ваши фонды, один из которых вы возглавляете, а другой опекаете, продолжают работать?
– Оба фонда на месте, хотя благотворительность сейчас сильно просела. Раньше нам много жертвовали из-за границы, теперь у людей проблемы с банковскими картами, у многих просто исчезла возможность нам помогать. Я надеюсь, что эта ситуация со временем выправится.
– Очень трудно сегодня спрашивать о будущем, оно для всех в густом тумане, и все-таки – чего вы ждете от завтрашнего дня?
– Когда был ковид, все разучились планировать, особенно я. Раньше у меня все было расписано: в 2016 году я знала, что в 2020-м у меня будет тур по Америке, в 2020-м я знала, что у меня будет турне в 2023-м, все расписывалось очень заранее. А когда наступил ковид, оказалось, что все мгновенно рассыпалось в прах, что надо жить только сегодняшним днем, потому что никто не может предсказать, что будет завтра. Вот и сейчас я заставляю себя усилием воли не строить никаких планов и ничего не обещать, а жить сегодняшним днем – как птицы небесные.