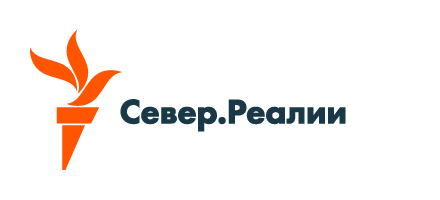Тирании выгоден постмодернизм.
Где автор, ау? Нет автора.
Где зло? Нет зла – все относительно, видишь ли, брателло.
Где добро? Нет никакого добра, с чего ты взял. Добро – это троп, у него множество троп, направо пойдешь – выступишь на “Царьграде”, налево пойдешь – напечатаешься в НЛО у Прохоровой.
Нет добра и зла – есть этикет.
У литераторов свой: про любовь – не комильфо, про травму – можно, про душу – отстой, про психологию – круто.
У власти свой: их там нет. Забрало запотело. Своим все, остальным – ну, вы поняли.
У оппозиционеров свой: этот 200 часов простоял с бесполезным плакатом, мы его защищаем, а тот горы свернул, но 10 лет назад что-то не то ляпнул – все, пропади, фашист.
Нет добра и зла – нет совести.
Нет автора – нет ответственности.
Нет ответственности и совести – нет человека.
И нет той самой русской интеллигенции, о феномене которой столько говорено, да не выговорено.
А если бы она была – не болело бы так в мозгу одно слово из прошлого года – Дмитриев. Вот уж кто умел различать добро и зло, вот уж кто призывал милость – к падшим в замшелые рвы Сандармоха, к стертым в лагерную пыль, лишенным семьи, жизни, будущего, имен, могил. А ведь что такое призывать милость? Это значит осуждать немилость. А кто эту немилость проявлял? То-то. Во времена Пушкина – царь, поэтому призывы к милости и тогда были крамолой. Во времена лагерей и расстрельных рвов – тогдашние чекисты, сегодня – их благодарные потомки, гнобящие Дмитриева именно за вытаскивание на свет и осуждение своих предшественников.
И второе слово не болело бы так – Навальный, сидящий по фальшивому делу вместо своих отравителей. И третье слово – “Мемориал”. На трех словах, трех китах стоит минувший год, а под ними колышется гигантская черепаха – пытки. Еще недалеко отплыла эта конструкция по волнам календаря, и ноги явственно ощущают ее, когда смотришь вперед, на новенький, почти не початый год с тремя лебедями и ноликом. Качаются лебеди, за ними клубится густой туман, в котором, однако, уже различаются смутно приближающиеся айсберги – лишение гражданства и возвращение смертной казни.
Если бы у нас была интеллигенция – весь прошлый год был бы покрыт толстым слоем гневных постов в защиту Дмитриева, Навального, “Мемориала” и требованиями упрятать за решетку на долгие годы всех ФСИНовцев, следователей, ФСБэшников, причастных к пыткам. От этих возмущенных посланий не видно бы стало ни китов, ни черепахи, да и кремлевские башни утонули бы в них по колено. И никаких ледяных гор, противных разуму и совести, не маячило бы в тумане.
Пушкин радовался, что восславил свободу и “милость к падшим призывал”, старший друг и наставник Жуковский переиначил эти строки, чтобы разрешили высечь на памятнике, и поэтому Пушкин велик, а Жуковский – нет. Строчка “… в мой жестокий век восславил я свободу” исчезла, а вместе с ней как бы повисла в пустоте и следующая – о милости к падшим. Из уст восславившего свободу она естественна, из уст раба (а для самодержца каждый, кто не он – раб) – крамольна. Крамола в том, что раб смеет призывать к милости. Милость может исходить только от царя, это его прерогатива, а не каких-то там, в пыли, под ногами. Поэтому в советское время о благотворительности (в основе которой жалость и милость) говорили как о вредном буржуазном пережитке: это кто, лучшее в мире советское государство о ком-то не позаботилось? Ты, что ли, червяк, больше государства понимаешь?
А уж о воспевании свободы и говорить нечего.
Но образованный российский авангард плывет не “на волнах моей памяти”, а на волнах интеллектуальной моды, в поле зрения которой не входят человеческие переживания, эмоции, радости и печали. И авангард художественный гребет где-то рядом, глядя не в человека, а куда-то вбок. Главная задача режиссерского театра – устроить пышную самопрезентацию за счет автора пьесы, который, как правило, мертв и не может возразить. И литераторы, и художники массово становятся такими же режиссерами самих себя, завлекающими публику трюками.
А я вспоминаю похороны Алексея Девотченко, актера, который был воплощенной совестью, участвовал в Марше Мира, в Марше правды и множестве других акций, в знак протеста против политики российского руководства отказался от двух Государственных премий и звания “заслуженный артист России”. Помню, как я подходила к актерам, разбредшимся по холодному Комаровскому кладбищу, и как они морщились и тянули, мучительно кривясь – “Ну, эта сторона его деятельности мне как-то совсем не близка… Ну, я не знаю, зачем он это делал… Не знаю… Не понимаю… Не разделяю… Разве ему мало было театра?..”
Ему было мало театра.
А нам – уже, кажется, и театра много.
Стоя одной ногой на прошлогодних китах и черепахе, а другой – на новеньких, еще только выплывающих на поверхность, я ловлю себя на том, что взгляд прикован к совсем другой фигуре – председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина. Свои золотые слова о том, что мораторий на смертную казнь – это уступка “ценностям, которые несвойственны национальному сознанию”, сей государственный муж изронил на исходе прошлого года, но его замечание насчет “возможности возврата к этой мере наказания в будущем” – явно устремлено к году, только что наступившему. А что, и устремится, и поплывет в светлую даль на трех лебедях.
Если честно, то особой надежды на то, что, когда дойдет до дела, кто-то этим намерениями будет серьезно противостоять, нет. Умом это понимаешь – но все существо противится мысли, что после всего, что сделали для отмены смертной казни Толстой и Короленко, после всех казней ХХ века мы возвращается на тот же кровавый круг.
“Двенадцатого мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущённые, полные предчувствий, – писал Владимир Короленко в своей статье “Бытовое явление”. – Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полёт решающей исторической минуты. Это была своего рода мёртвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с неё русская политическая жизнь, куда переместится центр её тяжести. Вперёд, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приёмам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами”. Это был 1906 год. До 1917 оставалось немного. Спустя сто с лишним лет топтание в мёртвой точке продолжается. И непонятно, сколько осталось души для противостояния варварству. Возможно, мы это проверим уже в наступившем году.
Если постмодерн не победит, небо в алмазах мы увидим вряд ли, но хоть строчку “Что в мой жестокий век восславил я свободу” с памятника Пушкину не срубят. Может быть.
А вот если постмодерн победит, и различать добро и зло будет по-прежнему немодно, то за каким-нибудь новым Жуковским не заржавеет, и строчке про свободу не устоять. Да и милость к падшим не устоит, помяните мое слово – не держится она без свободы.
Софья Рогачева – журналист
Высказанные в рубрике "Мнения" точки зрения могут не совпадать с позицией редакции