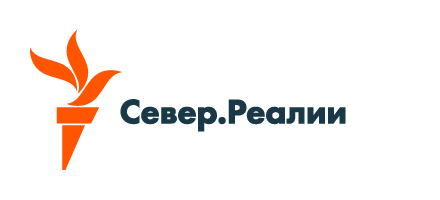8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В последние годы часто обсуждается вопрос о том, какой должна быть память о блокаде – героической или скорбной. Официальная точка зрения, однозначно апеллирующая к героике, вызывает неприятие у многих петербуржцев, которые выдвигают свои "тихие" инициативы – зажжение поминальных свечей, чтение имен погибших, изучение блокадных писем, воспоминаний, дневников. Корреспондент Север.Реалии поговорил о проблеме блокадной памяти с историком Даниилом Коцюбинским.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. О том, сколько людей погибло за это время от голода, холода и бомбежек, спорят до сих пор. Официально учтены более 641 тысячи погибших, но историки предполагают, что на самом деле количество жертв блокады может превышать один миллион человек, а если к ним прибавить погибших при обороне города, то эта цифра приближается к трем миллионам.
Память о блокаде Ленинграда, одной из величайших гуманитарных катастроф ХХ века, прошла непростой путь – замалчивания, возрождения, а затем трансформации, когда российские власти попытались заместить живую память о ленинградской трагедии картонной официозной героикой. Особенно заметно это стало уже в ХХI веке. Так, в 2014 году петербургские власти решили отметить 70-летие снятия блокады Ленинграда "историческими реконструкциями, передающими атмосферу жизни блокадного Ленинграда". Эта идея вызвала бурю негодования и среди блокадников, и среди депутатов городского парламента, и среди петербургского культурного сообщества. Против нее высказался и писатель, соавтор знаменитой "Блокадной книги" Даниил Гранин.
В дальнейшем острой критике подвергались и другие инициативы властей по замещению скорбной памяти о блокадной трагедии ура-патриотическими концертами, флешмобами и парадами.
Историк Даниил Коцюбинский считает память о блокаде явлением уникального масштаба, при этом для него это, прежде всего, память о большой трагедии, происшедшей по вине других людей. Однако он предостерегает от однобокого подхода – скорбная память для него не исключает памяти героической.
– Трагедии бывают разные, бывают стихийные бедствия, катастрофы, где даже если был человеческий фактор, но не было злого умысла – вспомним хотя бы санторинское землетрясение, когда погибла целая цивилизация. Бывают события, когда люди массово гибнут. Как помнят об этих событиях – как о просто трагедии или как о трагедии, в которой в поведении людей имел место героический компонент? Конечно, в ситуации любой катастрофы разные люди ведут себя по-разному. На том же "Титанике" кто-то жертвовал собой, спасая другого, кто-то паниковал, спасая себя. Нельзя во имя большой скорби забывать о примерах героического поведения людей, проявивших величие духа.
Память о Холокосте – и в Германии, и в мировом пространстве в основном только скорбная, трагическая, почти исключающая разговоры о героических компонентах. Не соглашаясь с таким подходом, историк напоминает о Януше Корчаке, о котором невозможно говорить просто как о бессильной жертве смертоносного молоха, запущенного для "окончательного решения еврейского вопроса", поскольку Корчак до последнего выполнял свой долг и приносил себя в жертву детям, порученным его заботе. Вот и память о блокаде – сложная, считает Даниил Коцибинский.
– Тем более что это память о длительном промежутке времени, когда у массы людей была возможность, хоть и в рамках процесса медленного умирания, каким-то образом проявлять себя. Кто-то погиб, кто-то пережил блокаду чудесным образом. Правда, в то время человек не знал, доживет он или не доживет, он себя вел как обреченный, но все равно – либо покорялся судьбе, либо сопротивлялся ее бесчеловечному вызову, творил, писал картины, вел дневники, помогал подняться упавшему рядом прохожему: эти действия выходили за рамки ступора или чисто физической борьбы за сохранение себя. Я не хочу сказать, что память о тех жертвах, которые ничего не сделали, просто мучительно погибли, неважна – она, безусловно, должна быть и даже доминировать, потому что этих людей были сотни тысяч, но в рамках этой большой трагической палитры должно оставаться место для памяти о трагической героике.
– Правильно ли мы нашли это место, правильно ли наша память расставляет акценты?
– К сожалению, из этой очень тонкой и сложно структурированной мемориальной палитры официоз наш, особенно в XXI веке это стало заметно, пытается выхолостить всё самое важное, что было живо, пока ещё сохранялась инерция советской традиции памяти о блокаде. Эта традиция возникла не сразу, какое-то время блокадная память была заблокирована сталинскими репрессиями и стала развиваться уже в 1960-е годы. В перестройку и в 1990-е этот процесс был на подъеме. В этом советском варианте скорбная составляющая существовала даже в рамках героической в целом памяти – ведь музей, созданный после войны, назывался Музей обороны Ленинграда, это был героико-триумфальный по своей стилистике музей. Наверное, это даже было оправданно, сразу после блокады людям хотелось не разговора об ее ужасах, они хотели другого, быстрой реабилитации психологической.
Первый Музей обороны Ленинграда был создан по свежим следам весной 1944 года, в нем было несколько разделов – борьба на дальних рубежах, "Дорога жизни", прорыв блокады, героический труд ленинградцев, количество экспонатов за первые годы существования музея достигло 37 тысяч. Но уже в 1949 году музей был, по сути, репрессирован вместе с теми, кого расстреляли и отправили в лагеря по "Ленинградскому делу". На объединенном пленуме Ленинградских обкома и горкома партии музей резко раскритиковал приехавший из Москвы секретарь ЦК ВКП (б) Маленков, обвинивший создателей музея в том, что они незаслуженно приписывают подвиг жителям и защитникам города, создают миф об особой блокадной судьбе Ленинграда, принижают роль Сталина в защите города. После этого во дворе музея, по воспоминаниям сотрудников, жгли бесценные экспонаты музея, фотографии, письма, увозили на грузовиках в переплавку или просто выбрасывали именные орудия ленинградцев, разбивали скульптуры. Сотрудники пытались спасти музей, вывешивая на стендах изречения Сталина, отдельные залы еще какое-то время работали, но в 1951 году разгром музея был полностью завершен, его помещения передали Министеpству Военно-моpского флотa.
Но, несмотря на то что первый блокадный музей был разгромлен, его успели посетить несколько миллионов человек, включая фактически всех жителей, оставшихся в городе.
– Это осталось одним из самых ярких воспоминаний, например, у моей мамы, – замечает историк. – Она уехала с семьёй из города перед самой войной, а вернулась только в 1945-м и успела там побывать. Потом она стала заниматься школьными музеями, посвященными в том числе войне, именно под влиянием посещения этой выставки. Но даже в этом музее был зал, где находился раскуроченный, разбомбленный трамвай, разбросаны были окровавленные вещи погибших людей. На экспозиции были показаны и дневник Тани Савичевой, и 125 блокадных грамм хлеба. И это производило не меньшее впечатление на посетителей музея, чем выставленные танки, оружие, самолет даже там был. Эта скорбная составляющая советской памяти о блокаде была очень ярко подчеркнута.
– Самый часто встречающийся блокадно-мемориальный слоган – это была строфа из Берггольц: "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам". Ключевое – "125 блокадных грамм", "огнем и кровью" – это уже вторая строчка, то есть прежде всего голод, а потом уже бомбежки, обстрелы. Битва за Ленинград, в которой погибло полтора миллиона человек в общей сложности, – это еще одна гекатомба, но все-таки смерть от голода – это самое страшное, что можно себе представить в той ситуации. Таким, еще раз подчеркиваю, был советский мемориальный блокадный нарратив. Да, он был героизирован, связан с упоминанием города-героя, "мы не сдались, мы выстояли", но в нем присутствовала поминальная скорбная составляющая, которая затмевала собой триумфальный победный официозный слог. Поэтому хоть 27 января и отмечался День снятия блокады, но в этот день помнили в первую очередь не о праздничном салюте, а о погибших.
– И все же, когда первый блокадный музей разгромили, большинство экспонатов уничтожили. Понятно, что это все делалось в рамках "ленинградского дела", когда сносили слишком самостоятельную, яркую верхушку ленинградского руководства, которое якобы себя чему-то там противопоставляло. Но был, наверное, и другой мотив, а именно убрать эту скорбь и сосредоточиться только на героике?
– Нет, все-таки скорбь в тот момент еще не доминировала в понимании того, как надо помнить о войне. "Ленинградское дело" было преподнесено как разгром ленинградского партийного сепаратизма. На самом деле это был разгром группировки, которая конкурировала в борьбе за сталинское наследие уже в Кремле, тем не менее эта группировка имела серьезную базу, именно регионалистскую, по тогдашним понятиям, в Ленинграде, как имел ее Зиновьев, кстати, еще в 1920-е годы. Ленинград, конечно, производил политическую элиту, еще по инерции дореволюционных времен, просто в силу своей цивилизационной мощи. Последний "выпуск" – это путинская команда. Не уверен, что будут еще какие-то примеры. Тем не менее так получалось, что Петербург, Ленинград бросал вызов Кремлю, даже не ставя перед собой таких целей. Но здесь еще вот что примешивалось. Сталин после войны стал замалчивать память о победе, ему именно героическая память была не нужна.
– Почему? Казалось бы, она так вписывается в советский пафос – вот гражданская война, вот Великая Отечественная, вот великие стройки…
– Потому что память народа-победителя о том, что он победил, Сталину была опасна. Неслучайно 9 мая всего один год был праздник, а потом его сделали обычным рабочим днем, все вернулось только в 1965 году при Брежневе, даже не при Хрущеве. Потому что огромное количество инвалидов было, огромное количество людей неблагоустроенных, тем более после войны ещё и голод обрушился на страну. Народ-победитель был советской властью унижен и оскорблен, обманут в своих ожиданиях, ведь ожидали, что полегче будет после войны, а никакого послабления не наступило.
Когда после ХХ съезда стали выпускать репрессированных и началась оттепель, даже Хрущев не рискнул в полной мере реабилитировать героическую память о войне. По мнению историка Коцибинского, это стало происходить совершенно другими путями, через "лейтенантскую прозу": культура быстрее стала двигаться в этом направлении, чем официоз. И только при Брежневе, когда ветераны стали выходить на пенсию, для поколения, не помнившего войну, стал создаваться новый образ войны – как праздник со слезами на глазах, и в этом образе нашлось существенное место для скорби.
– И все-таки давайте вернемся к современности – вы обрисовали несколько образов войны и блокады, что мы имеем сегодня?
– Я считаю, что сегодня произошла деградация официозной памяти о блокаде. В итоге память раздвоилась на два совершенно не совпадающих между собой, конфликтующих варианта памяти, но все-таки, как я полагаю, имеющих шанс если не на полное примирение, то хотя бы на консенсусное взаимодействие. То есть, с одной стороны, резко активизировался карикатурный, гротескный триумфально-победный официоз с полным игнорированием того, что блокада была трагедией. Уже нет ни слез, ни скорби, есть только улыбающиеся молодые люди в гимнастерках, которые кашу раздают какую-то непонятную в центре города 27 января. Где были полевые кухни во время блокады? Их на улицах города не было. Зачем нужен этот бред, этот балаган? Только для того, чтобы превратить уже во многом угасший в плане живых воспоминаний о блокаде нарратив в инструмент современной ура-патриотической политики, других оснований я не вижу.
– А почему эта метаморфоза произошла именно сейчас?
– Советская власть не могла себе позволить такого, потому что были живы поколения, помнившие войну, блокаду, их нельзя было оскорблять таким образом – это бы вызвало просто отторжение и возмущение. Даже у самих чиновников рука не повернулась бы, они тоже помнили все это, либо они сами, либо их родители. А здесь уже такие манкурты подросли во всех органах власти и в обществе, что появляется такой вот официозный нарратив. Его в некоторой степени поддерживает и официозная часть ветеранского сообщества, даже блокадного сообщества, хотя, конечно, далеко не все блокадники в этом участвуют.
– Неужели так просто обмануть память?
– Когда человеку очень хочется свои воспоминания подстроить под сегодняшние нужды, у некоторых это получается, им кажется, что они "все правильно помнят", когда вдруг начинают забывать какие-то существенные моменты. Но, с другой стороны, в противовес этому возникла мощнейшая общественная мемориальная линия обороны памяти о блокаде – тех людей, которые не приняли официозный ура-патриотический, балаганно-милитаристский кульбит. И они его не просто "голословно" отвергли: за это время было опубликовано такое количество мемуаров, писем и друих эго-источников в первую очередь, и у нас, и на Западе, что даже у советского редуцированно-скорбного варианта памяти о блокаде уже не остается морального права на существование. Сегодня мы знаем столько, что делать вид, что мы этого не знаем, уже нельзя. Если только ты полностью не становишься на позицию мемориального перевертыша, который просто игнорирует то, что было в реальности, что историки уже подтвердили, архивисты опубликовали.
Такое положение вещей Даниил Коцюбинский называет ситуацией мемориального противостояния. Комитет 8 сентября ведет последовательную борьбу за то, чтобы памятные блокадные дни не превращались в ура-патриотические чиновные балаганы, и возникшую традицию чтения имен людей, умерших в блокаду – чтобы подчеркнуть скорбную составляющую памяти о блокаде. Кульминацией этого противостояния стал парад 27 января 2019 года, а до него была мощная общественная дискуссия. Тогда же было подписано открытое письмо к Беглову, в то время ещё врио губернатора.
– Проект письма составили мы с Наташей Соколовской (известная петербургская писательница, редактор-составитель "Запретного дневника" Ольги Берггольц. – СР), подписано оно было огромным количеством достойнейших людей, многие блокадники тоже поставили свои подписи, что особенно ценно. Эта кульминационная фаза мемориального противостояния закончилась всё же некоторым вариантом мемориального примирения, что во мне посеяло даже какую-то надежду на то, что в будущем эти милитаристские крайности представления о блокаде будут преодолены. В частности, хотя парад и прошел, но под влиянием мощной протестной лавины президент Путин, приехавший в Петербург 8 января, не появился на параде, а отправился на Пискаревское кладбище, где возложил венок. То есть он все-таки показал, что с его точки зрения скорбная составляющая памяти о блокаде – более важная, чем триумфально-милитаристская.
75-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады городские власти отметили парадом, помпезными концертами в больших залах и "патриотическими экскурсиями", а гражданские активисты – альтернативными мероприятиями, главный лозунг которых был – "Человек важнее танков".
– Я помню, в одном из наших разговоров Наташа Соколовская мне сказала, что невозможно все время говорить только о скорби и трагедии. Что существует такая повестка, как трагическая героика. Потом, уже после того, как полемическая волна схлынула, я пришел к выводу, что Наталья права. Как мне представляется, в этом направлении и должна продолжать работать мысль вообще всех людей, занимающихся проблемами памяти в рамках научного тренда под названием Memory Studies, посвященного осмыслению проблем мемориальной культуры, о которой много пишет, в частности, влиятельная немецкая исследовательница Алейда Ассман. Нельзя никого зачесывать под единую гребенку, смысл трагической – виктимизированной – памяти в том, чтобы каждого человека рассмотреть и понять, как он прошел свой скорбный путь. Выжил он, не выжил – неважно, но его путь был трагический по определению. И в нем могли быть только страдания, мучения, гибель, а могли быть еще и моменты духовного сопротивления тому, что на тебя обрушилось. Для меня Юра Рябинкин, который, умирая, нескольких месяцев вел дневник, – не только жертва, он герой. Он тратил последние силы на то, чтобы создавать нечто, что не имело никакого отношения к его биологическому самосохранению, а только к самосохранению как человека, и как человек он себя сохранил.
– Сегодня время у нас очень сильно поменялось, уже полгода идут военные действия в Украине, в то же время приближается блокадная дата. Меняет ли наше восприятие нашей блокадной памяти то, что происходит на наших глазах?
– Я, естественно, об этом думал. Думаю, блокадная память более для нас значима, чем наше восприятие того, что происходит в XXI веке, независимо от катастрофического масштаба происходящего, я имею в виду гибель людей. Именно поэтому эта память становится особенно важной – она оказывается тем вошедшим в историческую память, культурно отрефлексированным и верно настроенным камертоном, с которым мы все-таки должны пытаться сверять наше восприятие того, что происходит сейчас. Она должна нам помогать сегодня быть более чувствительными.
Даниил Коцюбинский считает, что сегодня произошло колоссальное обесценивание человеческой жизни, человека как такового – и произошло это, с его точки зрения, под влиянием появления интернета, “мелькающего гипертаблоида”, который измельчает и рвет на части любую самую страшную информацию, по идее требующую того, чтобы человечество одумалось и задумалось, куда же мы все пришли. Историк оговаривается, что он не воюет с интернетом, но считает, что благодаря нему люди стали менее сострадательны. А те высокие образцы, которые воспитывают сочувствие, вроде фильмов той же Екатерины Гордеевой, остаются, по его мнению, к сожалению, в “маргинальном секторе” общественного внимания.
– Давно уже замечено, что память о войне была оседлана пропагандистами, использована для огрубления общества, для активизации агрессии. С блокадой такого, наверное, не могло произойти – или ее тоже коснулись эти процессы?
– Для меня очень характерным примером является фильм "Зеленые цепочки", снятый в начале 1970-х: шпиономания, вражеские лазутчики, которые якобы стреляли с крыш городских зданий ракетницами. И я хорошо помню – никому не было дела до этого фильма, он прошёл незамеченным, но из него вырвалась и осталась в памяти песня "Мальчишки у стен Ленинграда". Она была решена совершенно в другой стилистике, она абсолютно скорбная, хотя и с ясной нотой трагической героики, в духе дневника Тани Савичевой, дневника Юры Рябинкина. Блокада – это гибель беззащитных людей, которые при этом пытаются вести себя героически, то есть сопротивляются тому, что кажется неодолимым. Вот что такое память о блокаде в советское время. Как ее можно было превратить в какой-то агрессивный нарратив? Пытались, но не получалось. Хотя, мне кажется, даже особо и не пытались. Моя мама часто приглашала на музейные мероприятия ветеранов, они рассказывали, как кто-то на боевом самолёте летал, кто-то из снайперской винтовки стрелял, но в центре всех рассказов о блокаде всегда находился голодающий город. Символы блокады – это не обнимающиеся на постановочном кадре солдаты Волховского и Ленинградского фронтов, это изможденный старик с зажатой порцией хлеба, это фотография мальчика с перебинтованной головой и рукой, это фотографии Тани Савичевой. Они были знаковыми для советской памяти о блокаде, а фронтовые кадры были скорее иллюстрациями второго плана.
– Сегодня, по крайней мере, часть людей, которые пользуются интернетом, пользуются VPN, знают о том, что происходит в Украине. Много сравнивали Ленинград и Мариуполь, где люди сидели в подвалах, тоже голодали и умирали.
– Разумеется, любая военная операция, любое применение оружия одной армии против другой всегда связано с гибелью и солдат, и мирных жителей, особенно если эти действия носят широкоформатный характер, если они связаны с наступлением, с передвижением по большим территориям. Гибель людей мною всегда оценивается как трагедия. И здесь параллель с любой памятью о любой трагедии прошлого очень важна в том смысле, что память, отрефлексированная в культурном, мемориальном отношениях, о той же самой блокаде, о битве за Ленинград, она важна сегодня, чтобы мы правильно понимали и оценивали то, о чём узнаём, сопереживали людям в ходе тех событий, которые происходят сейчас, в том числе в ходе действий российской и украинской армий.