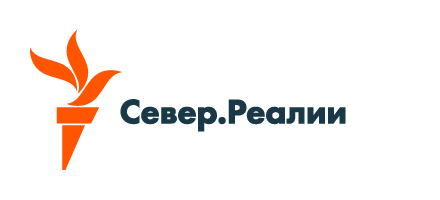30 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Даниила Хармса (Ювачева), одного из самых известных советских писателей-авангардистов, основателя ОБЭРИУ – Объединения реального искусства. В Петербурге, на Петроградской стороне, заканчивается ремонт в музее обэриутов, где уже обнаружили отпечаток руки Хармса и рисунки его друзей.
"То он приносил в класс валторну и ухитрялся играть на ней во время урока. То убеждал строгого учителя не ставить ему двойку – "не обижать сироту". Под каменной лестницей дома, в котором жила семья Дани Ювачева, он поселил воображаемую любимую "муттерхен" (мамашу) и вел с ней долгие беседы в присутствии пораженных соседей или школьных приятелей, упрашивая милую "муттерхен" не беспокоиться за него", – пишет литературовед Анатолий Александров в статье "Чудодей": Даниил Хармс с детства был не без странностей.
"Футуристы – это ясновидящие"
Даниил Хармс (Ювачев) родился 30 декабря 1905 года в Петербурге. Его отец, Иван Ювачев, офицер Черноморского флота, был списан на берег из-за увлечения революционными идеями. Вместе с народовольцами он готовил покушение на царя и был приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги. Сидя в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, испытал духовный кризис, обратился к вере, писал под псевдонимом Миролюбов, восемь лет провел на Сахалине, а вернувшись в Петербург, женился на дворянке Надежде Колюбакиной, которая заведовала убежищем для женщин, вышедших из заключения. Именно в здании этого убежища, в казенной квартире, родились Даниил Ювачев и его младшая сестра Елизавета.
Дома детей учили музыке, английскому и немецкому языкам, у них были гувернантки. В 1917 году Даниил поступил в немецкую школу Петришуле, но получал в основном двойки, и его перевели во 2-ю Единую трудовую школу в Детском (бывшем Царском) Селе, созданную на основе Мариинской гимназии и сохранявшую прежние традиции – здесь ставились спектакли и устраивались литературные вечера. Эксцентричный Даниил снискал восхищение одноклассников. Именно здесь он придумал свой псевдоним Хармс – возможно, от английских слов "harm" (вред) или "charm" (очарование) и начал писать стихи.
Дворянское происхождение помешало ему получить высшее образование, отец устроил его в Первый ленинградский электротехникум, который он прогуливал, зато много читал и увлекался авангардной литературой. С 1925 года Хармс начал ходить на собрания Всероссийского союза поэтов (ВСО), увлекся идеями футуристов и заумным языком. Тогда же он подружился с поэтом Александром Введенским, и они создали свою группу "Левый фланг", назвав себя "чинарями". Вскоре в их литературно-философский кружок вошли философы Яков Друскин и Леонид Липавский, поэт Николай Олейников.
В 1926 году группа сотрудничала с экспериментальным театром "Радикс", но бессюжетный спектакль "Моя мама вся в часах" не прошел цензуру, и театр закрыли.
Публичные выступления поэтов сопровождали скандалы и резкое осуждение в прессе. "Студенты… категорически запротестовали против… хулиганских выпадов... Они требуют от Союза поэтов исключения Хармса, считая, что в легальной советской организации не место тем, кто на многолюдном собрании осмеливается сравнить советский ВУЗ с публичным домом и конюшнями", – писала газета "Смена".
В 1927 году "чинари" вошли в "Объединение реального искусства" (ОБЭРИУ), где состояли также Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев и другие. В декларации ОБЭРИУ его участники провозглашали себя "новым отрядом левого революционного искусства", поэтами "нового мироощущения и нового искусства", для которого неприменима "житейская" логика.
Тогда же в Доме Печати прошел их самый знаменитый вечер – "Три левых часа": чтение стихов, спектакль по пьесе Даниила Хармса "Елизавета Бам" и фильм Александра Разумовского и Климентия Минца "Мясорубка". Вечер получил разгромные отзывы. Стихотворный сборник обэриутов не пропускала цензура. Группу выручил Самуил Маршак, пригласивший их в Ассоциацию писателей детской литературы, где они могли писать и издавать стихи и рассказы для детей. Последний литературный вечер обэриутов прошел в 1930 году в общежитии Ленинградского университета, студенты его освистали, а газеты привычно обругали.
В черновиках статьи "Воскрешение слова" Шкловского есть такая запись: "Задача данного реферата объяснить приемы молодого искусства и показать, что их происхождение вовсе не в желании быть причудливыми… Сумасшедшие <футуристы> это ясновидящие, они больными нервами чувствуют приближающуюся катастрофу… Вы отрицаете новое искусство, не зная его, во имя старого, которое не понимаете. Нам не нужно старых форм для выражения наших чувств… Из узких дворов небо кажется другим. Поезд на мосту требует новых ритмов".
"Литература тревоги"
Швейцарский литературовед, исследователь и основной переводчик Хармса на французский язык Жан-Филипп Жаккар писал в одной из своих статей о поэтической революции 1913 года. Появление ОБЭРИУ он считает продолжением этой революции. Хармса он открыл для себя в 1983 году, будучи стажером в Ленинграде.
– Днем я сидел в архиве и переписывал неизданные рукописи Хармса, а в шесть вечера появлялся у "Сайгона" (известное ленинградское кафе на углу Невского и Литейного проспектов, куда ходили писатели и художники "второй культуры". – СР). Это было прекрасное андеграундное время, я там познакомился с Митьками, с Цоем очень подружился. Весь Хармс находится в Публичной библиотеке, только стихи, поданные для зачисления в Союз поэтов, хранятся в Пушкинском доме, куда меня не пускали. Но мы с литературоведом Андреем Устиновым тайком получили их фотографии и издали в Венском альманахе. А сейчас прибавили много материалов, и у нас выходит новая книга о Хармсе, "Даниил Хармс и литературный Ленинград 20-х годов", – говорит Жан-Филипп Жаккар.
Эксцентричный образ Хармса (трубка, кепка с длинным козырьком, короткие брюки до колен), который он сам себе создал, Жан-Филипп тоже считает частью европейского тренда.
– Это, конечно, мировое явление, весь авангард такой. Единственно, что если в 1910-е годы такая театрализация жизни была везде, то уже в 1920-е это становится немножко странным, но Хармс, мне кажется, такой уникум, он же в 1930-е годы так себя вел – 20 лет спустя.
По словам Жана-Филиппа, когда он приехал в Советский Союз в 1980-е годы, и сказал, что занимается Хармсом, это вызвало огромный энтузиазм, хотя знали, в основном, его рассказы, а не стихи, изданные к тому времени только в Германии.
– Я приехал с этими томами, все их стали лихорадочно ксерокопировать, в этом кругу они ходили по рукам, все знали о нём и восхищались, и для меня это было как визитная карточка. Говорили – этот человек занимается Хармсом, значит, наш, – рассказывает Жаккар.
Хармс, который писал в конце 1920-х и в 1930-е годы, повлиял на литературный процесс более позднего времени, начиная с 60-х годов, считает он. Тогда тексты Хармса, находившиеся у Друскина, уже знали, и они сильно повлияли на развитие самиздата. Но классиком он стал в начале 1980-х, когда вышла его первая книга, и когда его открывали более широкие круги читателей.
У исследователя есть теория, что авангард кончается, с одной стороны, из-за собственных противоречий, с другой, из-за насилия со стороны власти. В 1930-е годы, считает он, авангард по всей Европе превратился в литературу тревоги, это не только русское явление – а ко времени войны в литературу абсурда.
– На самом деле, там, где самые страшные послевоенные режимы, там и самые сильные авангарды: в Италии, Германии, России. Я не знаю, с чем это связано – просто констатирую. Поэтому судьбы тоже очень похожи, они параллельны. Конец НЭПа, победа Сталина, начало первой пятилетки и одновременно – разгром обэриутов и детской редакции Маршака. После этого уже нет публичных выступлений, обэриуты пропадают с горизонта и сидят на кухне – как русские любят, а что ещё остаётся делать? Но это всё не случайно, на самом деле. Это все преддверие экзистенциализма, который рождается в начале Второй мировой войны. А соцреализм и прочие побочные явления, конечно, обречены на исчезновение, – говорит Жаккар
"Он хотел, чтобы мы совсем пропали"
В декабре 1931 года Хармс и Введенский были арестованы, названы "членами антисоветской группы писателей" и обвинены в контрреволюционной деятельности. В обвинительном заключении Хармса значилось: "Сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи и установки". В мае 1932 года его приговорили к трем годам лагерей, но отец, революционер-народоволец, сумел добиться замены лагеря на ссылку, из которой Хармс – опять же благодаря отцу – вернулся уже осенью.
В 1933-м году Хармса восстановили в Союзе писателей, откуда он был исключен в 1929-м году, разрешили сотрудничать с детскими издательствами и журналами и даже проводить встречи со школьниками. О том, как проходили такие вечера, вспоминала редактор журнала "Чиж" Нина Гернет: "В пионерлагере после его выступления все слушатели встали и пошли за ним, как за Гаммельнским крысоловом, до самого поезда".
Но к середине 1930-х годов Хармса почти перестали печатать, ОБЭРИУ к тому времени уже не существовало. Хармс оказался в нищете. В 1937 году расстреляли Николая Олейникова, редакция Маршака была разгромлена. В 1939 году Хармс удачно симулировал шизофрению и получил белый билет.
Знаменитое стихотворение "Из дому вышел человек" было написано в 1937, его жена Марина Малич писала: "Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком, в лес и там бы жили. Взяли бы с собой только Библию и русские сказки. Днем передвигались бы так, чтобы нас не видели. А когда стемнеет, заходили бы в избы и просили, чтобы нам дали поесть, если у хозяев что-то найдется. А в благодарность за еду и приют он будет рассказывать сказки…"
23 августа 1941 года Хармса арестовали во второй раз и обвинили в антивоенной агитации и пораженческих настроениях. Отца к этому времени уже не было в живых. Врачи снова признали Хармса сумасшедшим, его отправили в тюремную больницу, в психиатрическое отделение, где он умер, как считается, от голода, 2 февраля 1942 года. Рукописи Хармса, Олейникова и Введенского спас во время блокады Ленинграда философ Яков Друскин.
"Его восхищает чудовищное и ужасное"
О том, почему Хармс так востребован сегодня, писал Борис Парамонов в своем эссе "Русский европеец Даниил Хармс": "… Хармса нельзя сводить к русской литературе, даже к России вообще: он писал о всеобщих содержаниях эпохи. Говорят же, что он похож на Ионеско и Кафку. …это и есть гений: установление прямой связи не с бытом, а с эпохой, с самим Бытием…"
Хармса часто называют прародителем абсурда. Писатель Дмитрий Быков считает, что хотя в нем есть традиционный обэриутский абсурд и определённые дозы цинизма, но из всех модернистов XX века он наиболее религиозный, чувствительный к сакральному.
– И стихи у него даже более лирические, чем в это время у Заболоцкого. Обэриутская дисциплина почти монашеского ордена заставляла его иногда, ну, как ваганта, позволять себе определённые кощунства. Но в целом надо помнить, что Хармс – сын религиозного фанатика и сам религиозный фанатик. Его отношение к Богу, к женщине, к творчеству было в огромной степени религиозным. У Ани Гарасимовой, Умки, есть замечательные наблюдения, что комическое у Хармса возникает непроизвольно, а главная составляющая его лирики – это восторг и ужас перед человеческой участью, – говорит Дмитрий Быков.
Хармс писал, как ему отвратительно всё полезное, но восхищает всё бессмысленное, и глубоко отвратительно страшное, но восхищает чудовищное и ужасное. Это, по мнению Быкова, трансформирование всего в более высокую тональность, "включая отношение и к сексу, и к алкоголю, и к голоду, который он тоже религиозно переживал", его способ "прожить унизительные и постыдные времена, как времена божественные".
– И если сравнивать Хармса с мастерами хоррора, то, конечно, он ученик Майринка, которого считал любимым своим автором. И он искренне верил, что настоящее искусство способно радикально менять жизнь. Отсюда его жизнетворчество, его наложенные на себя обязанности, вроде хождения в жару в чёрном суконном костюме – тоже монашеская дисциплина. Его замечательная формула: "Хорошее стихотворение – если бросить его в стекло, стекло разобьётся". То есть придание искусству ещё и дополнительного сакрального характера. Вера в абсолютную власть поэта и рациональную, во многом ритуальную власть над душой, – поясняет Быков.
Сам он ценит ранние стихи Хармса гораздо меньше поздних – имеющих "высокие признаки мистерии".
– У меня есть идея, что главный жанр XX века – это мистерия. И как раз в нее Хармс внёс самый существенный вклад, – замечает Быков. – "Елизавета Бам" – это мистериальный текст, так же как текст Введенского "Кругом, возможно, Бог". То, что происходило в XX веке, материалистического объяснения иметь не может – только абсурдное или религиозное. "Елизавета Бам", вероятно, лучшая абсурдистская пьеса ХХ века, значительно опережающая по своему пафосу того же Ионеску. Это не просто театр, это театр церковный. И я думаю, что его ритуализация жизни, шифрованные дневники, висящие на стенах предупреждения типа "эти часы имеют особый сверхлогический смысл" – это тоже не театрализация, не буффонада, а именно мистерия.
Все, жившие при большевизме, проживали это время не просто как террор, но чувствовали, что XX веком выведены наружу "чудовищные мистические силы", большие, чем "какой-то империализм или какой-то коммунизм", считает Быков. Достаточно вспомнить Блока, который говорил, что в своей поэме "12" писал не о Ленине и не о революционном патруле, а о тех волнах, которые подняты в мировом море духа.
– Так и Хармс видел не Сталина и не редакцию "Ежа" и "Чижа" (детские журналы. – СР), а великие духовные события, которые являются в известном смысле расплатой за слишком долгий плоский материалистический подход к жизни. И сам Хармс, конечно, не был сумасшедшим, это удобная маска для монаха. Он юродствовал, но его подход к реальности, скорее чеховский, неслучайно он Чехова так любил. Это высокий абсурд. Это помещение рядом с пошлой мещанской реальностью мощного источника света, который находится в самом авторе. Мы считаем Чехова отцом абсурда, потому что у него абсурдность повседневности подчёркнута присутствием рядом высокого безумия, – рассуждает Дмитрий Быков.
По его мнению, если бы Хармса назвали сумасшедшим, он бы расценил это как высший комплимент – расставшись тем самым с пошлым здравомыслием. А ближе всего к нему по темпераменту были философы Друскин и Липавский.
– Друскин, уже падая от голода, спас его архив, на санках вывез всё, что осталось от его текстов, эти уникальные 10 тетрадей мы имеем только благодаря чуду, выжившему Друскину. Только настоящий мыслитель, философ религиозного склада мог понять то, что делает Хармс, – считает Быков. – Марина Малич приводит эпизод, который меня глубоко потряс: в августе 1941 года её собираются мобилизовать – рыть окопы под Ленинградом, а она очень слаба и понимает, что это ее убьет. Тогда муж ей говорит: "Я пойду посоветуюсь с папой". Он идет на могилу отца, который ему говорит: "Когда позовут на эту мобилизацию, повторяй про себя: "Красный платок ", и они тебя не тронут". И она действительно повторяет про себя: "Красный платок", и ее не берут.
Быков считает, что эта история – в русле Акутагавы, и что Хармс – это русский Кафка, русский Акутагава, то есть модернист, пришедший к религиозным практикам.
– Главные чувства Хармса, Кафки и Акутагавы по отношению к родителям – это вина: всякий модернист одержим представлением о своей непоправимой вине, о том, что надо искупить бунтарство и материализм, вернуться к родительским корням. Хармс всю жизнь ссорился с отцом, отец всю жизнь считал его пустобрёхом, а под конец пришёл к полному примирению, к пониманию его идей. Это тоже очень о многом говорит, – рассказывает Быков.
"Сегодняшнее время очень поглупело"
Хармс не устаревает потому, что ему в высшей степени было присуще серьёзное отношение к жизни.
– Мы живём сейчас в серьёзные времена, даже более мистериальные, чем тридцатые годы прошлого века, потому что тогда этому мешал ум. А сегодняшнее время очень поглупело. Мы живём во времена колоссального идиотизма, путинского и околопутинского, и официальная религия тоже чудовищно поглупела. Во времена такого массового идиотизма становятся виднее черты небесной механики. Ум не мешает постичь те великие сдвиги, которые происходят. А то, что они происходят, это бесспорно, – не сомневается Быков.
Жан-Филипп Жаккар в декабре побывал в Петербурге – его пригласили на предварительное открытие будущего музея обэриутов в бывшей квартире Александра Введенского на Петроградской стороне. Сейчас там идет реставрация и ремонт, но уже есть удивительные находки: на первом слое оригинальных обоев в комнате Введенского обнаружились рисунки его друзей: рыбка и отпечаток руки.
– Они нашли руку Хармса, – радуется Жан-Филипп. – Он же был высокий, выше всех, они все свою руку прикладывали, но так высоко могла быть только его рука. Открытие этого музея очень важно, это признак того, что ничего окончательно не умирает, и что не все запрещено. Ведь несколько лет были попытки снова закрыть обэриутов – когда стерли граффити, портрет Хармса на его доме на улице Маяковского, хотя табличка его памяти пока осталась. Потом выгнали из школы учительницу Серафиму Сапрыкину, которая на уроке читала детям стихи Введенского и Хармса. И одновременно на сцене БДТ была поставлена "Елизавета Бам". Это все противоречия, конечно – но и свидетельства того, что Хармс востребован временем.